«Белое солнце пустыни». Как создавался культовый советский истерн
Советский ответ Голливуду
1960-е. Американские вестерны постепенно увядают и подвергаются ревизии – режиссеры меняют многие традиционные элементы, а в Италии появляются первые спагетти-вестерны. Советским ответом на стремительное изменение жанра становятся истерны – поджанр вестерна со схожими стилистическими особенностями, но совершенно иным местом действия и контекстом. Поскольку очевидное заимствование голливудских методов и канонов отрицалось, а советская цензура ревностно относилась к подражанию западным жанровым идеалам, режиссерам приходилось выискивать компромисс.
Им стала революционная тематика. Действие чаще всего происходило в период Гражданской войны или сразу после нее. В фильмах воспевался рабочий класс и поддерживались идеи коммунизма. Вместо Дикого Запада основной локацией стали пустынные и степные просторы на юге страны. В остальном истерн вторил вестерну – герои обязательно делились на положительных и отрицательных, участвовали в погонях на конях, перестрелках, умело пользовались особенностями местности.
Первые истерны появились еще на заре молодого государства, в 1920-1930-е, но это были единичные примеры, так и не сформировавшие волну популярности жанра. Все изменилось в 1960-х с выходом в советский прокат приключенческого фильма «Неуловимые мстители» (1966), вдохновленного в том числе голливудскими вестернами. Картина сразу же понравилась зрителю – ее посмотрели почти 60 миллионов человек – и открыла дорогу на большой экран другим отечественным фильмам-подражателям вестернов.

Исход Кончаловского и сценарист-обманщик
В самом конце оттепели советская кинематография претерпела значительные изменения. В системе появился новый элемент – «Экспериментальная творческая киностудия» (далее – ЭТК) под руководством Григория Чухрая, которая работала по принципам самоокупаемости и отдаленно напоминала маленький Голливуд. ЭТК обладала сравнительно большей творческой свободой. Однако с окончанием оттепели период этой свободы закончился, ЭТК превратилась в «Экспериментальное творческое объединение» (далее – ЭТО), работающее по тем же принципам, и была прикреплена к «Мосфильму». Под крылом ЭТО свои лучшие фильмы сняли Данелия, Гайдай, Михалков, а первым крупным художественным успехом для студии оказался истерн «Белое солнце пустыни».
Фильм был задуман в 1967 году сразу после кинотеатрального успеха «Неуловимых мстителей». Для работы над картиной ЭТО утвердило Андрея Кончаловского – он должен был написать сценарий и выступить режиссером. Однако первый драфт сценария под названием «Басмачи» студию не устроил, и Кончаловский ушел из проекта. Режиссер Владимир Мотыль вспоминает:
«“Белое солнце пустыни” с самого начала задумывалось как вестерн. Его должен был снимать Андрей Кончаловский. Под него писали сценарий. У него была эта идея. Потом он посчитал, что это могут разыграть только американские актеры, отказался. Потом было несколько других режиссеров, которые тоже отказались».
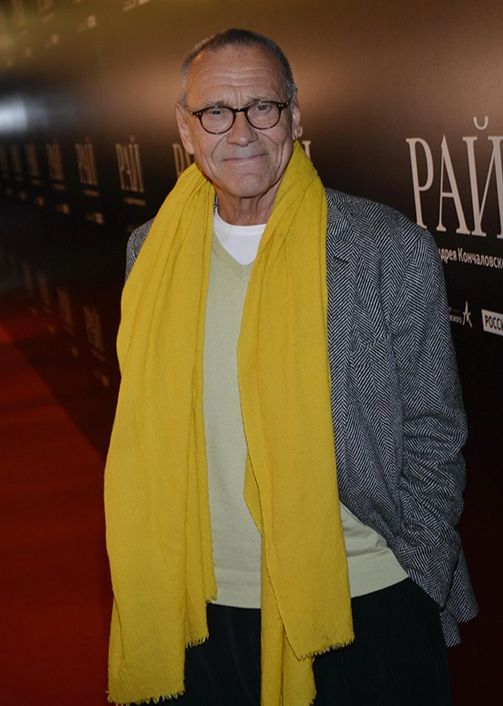
После череды отказов фильм мог лечь на дальнюю полку, но руководство ЭТО все же решительно намеревалось найти сценаристов. И они нашлись – Валентин Ежов («Баллада о солдате») обещал написать сценарий за полтора месяца вместе со своим другом по Высшим сценарным курсам Рустамом Ибрагимбековым. Выбор соавтора Ежов пояснял тем, что местом действия ленты станет среднеазиатская пустыня, поэтому ему в помощники требуется настоящий знаток Востока. Но Ибрагимбеков таковым никогда не был:
«Скрыв, что никогда в жизни не был в Средней Азии и в революционных событиях не участвовал, я обещал поделиться своим восточным опытом…», – вспоминал Ибрагимбеков.
Сюжетообразующую историю Ежову рассказал один из ветеранов Гражданской войны. Бывший командир бригады узнал о том, как басмач бросил свой гарем посреди среднеазиатской пустыни во время бегства. Рассказанная история показалась авторам интересной, и они принялись работать над сценарием под названием «Спасите гарем» (название позже сменится еще дважды) – довольно близким к итоговому варианту.

«Неблагонадежный» Мотыль
В списке режиссеров, кому предлагалось снять «Белое солнце пустыни» после отказа Кончаловского, было немало известных фамилий, но все они друг за другом отказывались. Дошла очередь и до Владимира Мотыля, автора военной мелодрамы «Женя, Женечка и “Катюша”», переживавшего непростое время.
Его фильмы шли вразрез с линией партии, и работать «неблагонадежному» постановщику попросту не позволяли. Однако тут совершенно другое дело – сценарий-то пишут совсем другие люди. Мотыль дважды отказался, однако в третий раз уговоры Григория Чухрая оказались успешными – режиссер все-таки согласился, получив достаточную степень творческой свободы.
«После фильма «Женя, Женечка и “Катюша“» я был загнан в угол властями, я скрепя сердце согласился прочесть сценарий. Считал, что не могу ставить приключенческий фильм, это не мое. И, прочитав сценарий, отказался. Потом костлявая рука голода приблизилась еще и к дыхательным путям… Я снова перечитал сценарий и снова отказался. А когда в третий раз ко мне обратилась студия Григория Чухрая, мне привиделась Катерина Матвеевна, к которой идет мой герой… Я попросил авторов о творческой свободе, и они мне ее дали.
Почему я согласился взяться за чужой сценарий Ежова и Ибрагимбекова, хотя и с большими оговорками и условиями? Потому что этот сценарий посвящен такому явлению человеческой души, как способность к самоотверженности. Что такое самоотверженность? Это значит отвергнуть свой собственный корыстный интерес и служить идее, служить ближнему. Не тому, кого ты любишь, обожаешь, а совершенно незнакомому человеку».
Несмотря на то, что сценарий был готов, режиссер найден, судьба «Белого солнца пустыни» (рабочее название – «Пустыня») оставалась под вопросом. Может ли «неблагонадежный» Мотыль снять это кино, обладая творческой свободой? Пройдет ли сценарий сквозь сито советской цензуры? Ответы на эти вопросы были получены осенью 1967-го – картину включили в тематический план Комитета по кинематографии СССР на 1968 год. Только с несколькими условиями: русские персонажи, Сухов и Верещагин, станут более объемными и трансформируются в примерных красноармейца и таможенника, а в съемках будут задействованы киностудии среднеазиатских советских республик.

Кастинговые трудности
Кастинг на главные роли начался в январе 1968 года. Ключевыми претендентами на роль красноармейца Сухова были Георгий Юматов и Анатолий Кузнецов. Первый на тот момент считался более известным, пусть и отошедшим от героических ролей. Это и повлияло на выбор создателей в пользу Юматова даже с учетом время от времени возникающих проблем с алкоголем. Они-то и проявились уже в первую съемочную неделю – он серьезно пострадал после драки в состоянии алкогольного опьянения, поэтому роль отошла к свободному Анатолию Кузнецову.

Удивительна и судьба роли Павла Верещагина. Досталась она театральному актеру Павлу Луспекаеву, чья карьера в кино долгие годы складывалась не слишком удачно. К тому же Луспекаев был тяжело болен – во время войны он обморозил ноги, что стало причиной нарушения кровообращения и ампутации фаланг пальцев на ногах. Проблемы со здоровьем, впрочем, не помешали ему принять участие в съемках. Он не мог долго ходить, отказывался от костылей в кадре, часто прерывал дубли, чтобы отдохнуть. Харизма и рвение Луспекаева создать запоминающийся образ так вдохновили Владимира Мотыля, что он решился переписать сценарий, увеличив экранное время Верещагина и сделав его одним из центральных персонажей истории. Изменилось и имя героя – Александр превратился в Павла в честь невероятной силы воли Луспекаева.

С другими ролями трудностей было не меньше. Дольше всего создатели искали актера, способного сыграть Петруху, – выбор пал на молодого Николая Годовикова, уже игравшего эпизодическую роль у Мотыля. Саидом стал Спартак Мишулин, Абдуллой – грузин Кахи Кавсадзе. Жен для гарема Абдуллы искали по всему СССР. Местные отказывались от участия в картине, а приглашенные актрисы были вынуждены рано покинуть съемочную площадку из-за жары, поэтому в некоторых сценах, где героиням не нужно открывать лица, их заменяли солдаты из соседней воинской части.
Зыбучие пески Дагестана и несколько пересъемок
Съемки начались в июле 1968-го и проходили в разных локациях. Сны Сухова снимали под Ленинградом, а основные декорации были выстроены в Дагестане близ Махачкалы на берегу Каспийского моря. Заглянула съемочная команда и на зыбучие пески знаменитого дагестанского бархана Сарыкум, на котором сняты начальные сцены фильма. Третьей локацией стала территория Древнего Мерва в Туркменистане.

Сьемки в общей сложности продлились больше года – режиссеру пришлось готовить сразу несколько версий картины и переснимать отдельные эпизоды. Поскольку в 1968 году параллельно создавалась киноэпопея «Освобождение», вся техника и лучшие специалисты были привлечены туда. «Белому солнцу пустыни» не досталось даже съемочного крана, что в итоге помешало включить в истерн то, без чего жанр практически не может существовать, – сложные конные трюки.
Первый этап съемок был закончен в начале 1969 года. Руководитель ЭТО Григорий Чухрай, внимательно изучив материал, остался недоволен и рассматривал вариант закрыть картину или передать ее другому режиссеру. Однако вмешалось Министерство финансов, выделившее на ленту дополнительные средства и предложившее доработать ее, сделав менее трагической.
Творческая группа переписала отдельные сцены, в том числе полностью изменив финал, и Владимир Мотыль вместе со съемочной командой вновь отправился в Туркмению. Новый вариант был готов к сентябрю 1969 года, но и он не устроил руководство студии. В условиях ограниченных ресурсов позволить еще одну командировку на юг ЭТО не могло, поэтому пришлось вносить последние штрихи на «Мосфильме». Впрочем, даже это не помогло «Белому солнцу пустыни» – фильм все равно не был принят.

Спасение в лице Брежнева
Не секрет, что главными кинокритиками страны в тот период были высшие партийные чиновники. На дачах некоторых из них были организованы кинотеатры, в которых демонстрировались выпущенные и не выпущенные в советский прокат западные и отечественные картины. Имелся такой и у генсека ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева. Ему нравилось западное кино, поэтому истерн «Белое солнце пустыни» как ответ голливудским вестернам был включен в репертуар его кинотеатра на ноябрьские праздники 1969 года. Брежневу кино понравилось, и он позвонил председателю Госкомитета по кинематографии Алексею Романову и удивился, почему фильм все еще не вышел в отечественный прокат:
«Утерли нос американцам, молодцы. А почему фильм не в прокате? Его должны увидеть советские люди».
После такого лестного отзыва от первого лица государства картина не могла не попасть в широкий прокат. Он стартовал 30 марта 1970 года, но публика его приняла неоднозначно. В год премьеры «Белое солнце пустыни» посмотрело более 30 миллионов человек – это второе место в прокате по количеству зрителей за 1970 год (первое – «Освобождение»).
В ежегодном опросе журнала «Советский экран» лента Владимира Мотыля заняла лишь двенадцатое место в списке лучших фильмов года. Причем доля тех, кто признал ее лучшей, приблизительно равна доле тех, кому она совершенно не понравилась (по 4% опрошенных).

Талисман советских и российских космонавтов
Со временем неоднозначность из оценок исчезла. «Белое солнце пустыни» приобрело культовый статус, а некоторые фразы героев стали крылатыми. Еще один важный маркер признания – выбор истерна для показа в рамках акции «Последний сеанс тысячелетия». Зрители выбрали именно ленту Владимира Мотыля как фильм, который должен закрыть второе тысячелетие на последнем сеансе в московском киноцентре «Дом Ханжонкова» 31 декабря 1999 года.
Символическим «Белое солнце пустыни» стало для нескольких государственных институтов. Персонаж Павла Луспекаева Верещагин долгие годы остается символом таможенной службы России – герою установлен памятник в Кургане, Москве и Южно-Сахалинске.
Особую роль фильм играет для отечественных космонавтов. Перед каждым стартом просмотр «Белого солнца пустыни» – обязательный ритуал на Байконуре. Копия картины есть даже на борту Международной космической станции. Российский космонавт Олег Котов так поясняет появившуюся традицию:
«Просмотр “Белого солнца пустыни” стал для нас традицией в результате подготовок предыдущих экипажей по съемкам. Этот фильм используется в качестве пособия для обучения космонавтов киносъемкам. Как строить план, как работать с камерой, как выставлять сцены. “Белое солнце пустыни” – эталон операторской работы. Космонавты знают этот фильм более чем наизусть».
Впрочем, есть и другое объяснение сложившейся традиции. После трагедии, случившейся в 1971 году с экипажем корабля Союз-11, когда погибло три члена экипажа, космонавты следующей миссии для психологической разгрузки перед полетом смотрели «Белое солнце пустыни». С момента появления этой традиции за 50 лет не погиб ни один советский или российский космонавт.
В оформлении статьи были использованы кадры из фильмов и фото с сайта legion-media.ru.
