Георгий Кизевальтер «Слова и смыслы»





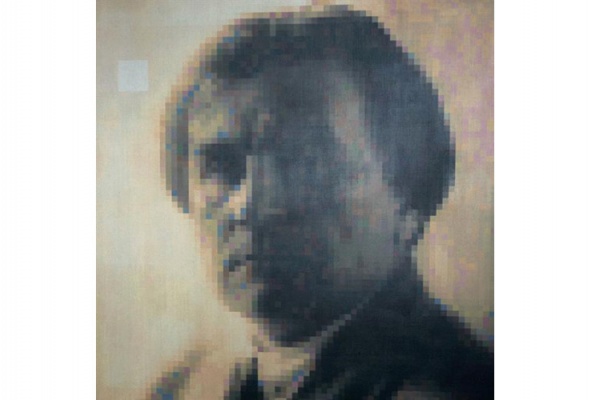

О выставке
Выставка одного из главных идеологов московского концептуализма Георгия Кизевальтера в галерее Iragui — шанс понять самое непонятное направление в российском искусстве последних 50 лет.
Вместе со своим другом и коллегой по цеху Андреем Монастырским Георгий Кизевальтер основал арт-группу «Коллективные действия», значение которой для московского концептуализма в частности и для отечественного искусства после 1975 года в целом огромно. Московский концептуализм — пожалуй, самое сложносочиненное направление в российском искусстве, требующее от зрителя максимальной погруженности в контекст, понимания и знания повторяющейся символики и происхождения сюжетов в акциях и других работах «Коллективных действий». И вот на этом месте, когда вы, должно быть, уже достаточно испугались и приняли решение на выставку не идти, и начинаются хорошие новости.
У Георгия Кизевальтера очень много ироничных, простых по исполнению и даже по концепции работ, которые несложно понять, — при том, что они заключают вполне глубокие смыслы. Например, его попытка отойти от привычных стереотипов восприятия, сломать их и заставить думать вне привычных и косных правил довольно забавно выражена в одной из работ, которая представляет собой обычный ящик с дыркой, в которую вроде как предлагается смотреть — иначе зачем она там? Рядом с ящиком висит кнопка-выключатель, которую предлагается нажать по тем же соображениям. Чего ожидаем мы, обычные зрители? Правильно: что нажав кнопку, мы сможем что-то увидеть в ящике. Вместо этого из ящика раздается оглушительный звонок, а зритель еще несколько секунд недоумевает, почему ничего не видно — ведь предложили заглянуть — и при чем тут звонок? А при том, что никто ничего не предлагал — мы сами «считываем» это предложение, примерно так же, как устало плюхаемся на свободный стул, оказавшийся рядом, — иначе зачем вообще нужны стулья?
Кизевальтер с почти детской свободой от стереотипов взрослых препарирует устойчивые выражения и привычные сюжеты. Как, например, в работе «Раковая шейка», где помимо всем знакомого фантика от карамели, который сразу приходит в голову, изображена еще и женская шея, на которой на цепочке висит вареный рак — тоже раковая шейка, почему нет? Или квадрат Малевича — квадратный портрет Малевича, нарисованный пиксельными квадратиками. И именно эти знакомые образы и эта какая-то по-детски смелая попытка их переиначить, чтобы проникнуть глубже в неуловимую суть вещей и заставить нас думать шире, и делает его работы понятными для зрителей, не осиливших замысловатую азбуку московского концептуализма. А нас таких, поверьте, большинство.
